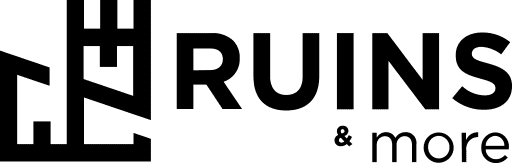Иногда мы не то, что редко смотрим на небо, мы даже не успеваем оглянуться вокруг себя. Сколько раз за свою жизнь я проходил в минскую гостиницу «Планета» или рядом с ней, но ни разу не обращал внимания на керамическое оформление её входной группы. Всё время куда-то спешил и пролетал мимо. Но случился наконец момент, когда торопиться было некуда. Я лениво вышел из гостиницы, взглянул на фонтан, перевёл взгляд на опору, поддерживающую надстройку над главным входом и замер – ни дать ни взять передо мной сверкал покрытый глазурью шедевр Сандро Боттичелли «Весна» 🌸. Просто относительно недавно я любовался им в галерее Уффици воочию, и ассоциация прилетела мгновенно. Конечно, это была не «Весна», но всё-таки очень и очень красивая работа эпохи позднего советского монументализма. Точнее две работы, так как длинная опора украшена с обоих сторон, хотя тема одна и наименование у этого произведения искусства одно – «Садоўніцы».
Вернувшись домой, я попытался найти информацию об этом панно. Автором “Садоўніц” оказался Евгений Ильич Кузнецов, художник монументально-декоративного жанра, «аўтар роспісаў і рэльефаў у многіх грамадскіх памяшканнях» по данным Национальной Библиотеки Беларуси. Больше о Евгении Кузнецове и других его работах я сходу ничего не нашёл, что удивительно, поскольку в БССР в 1960-1980-е годы случайные художники государственных заказов не получали. Их круг был ограничен, а легендарные фамилии на слуху, в интернете и на улицах нашего города и сегодня – Кищенко, Савицкий, Ващенко … но Евгений Кузнецов зашифровался надёжно 😎. В конце концов я обнаружил упоминания ещё о двух работах этого художника – “Сенокос” (1973–1974 гг.) в столовой рамного цеха минского автозавода 🚚😲 и «Аксаковщина» (примерно 1975 г.) в фойе киноконцертного зала одноименного санатория, который теперь именуется Республиканской Клинической Больницей Медицинской Реабилитации. Интересно, сохранились ли эти росписи до сих пор?
Все эти керамические панно, включая «Садовниц», выполнены в технике подглазурной росписи, весьма сложном жанре монументально-декоративного искусства, насколько я понимаю. Рисунок наносится на прошедшую обжиг основу (шамот), затем покрывается глазурью и ещё раз обжигается при высокой температуре (1200–1300 °C), за счёт чего происходит сплав краски с глазурью и достигается блестящий в прямом и переносном смысле этого слова эффект. Примерно так. Сложность тут заключается в том, что краски и пигменты при высокотемпературном обжиге меняют свой цвет и довольно непросто получить точно такой окрас, на который изначально рассчитывает мастер. Многие красители вообще не выдерживают столь высокую температуру, поэтому их выбор невелик, в основном это оксиды кобальта, который, к слову, дал нашим «Садовницам» синий оттенок, меди и хрома (зелёный), железа (красный), никеля (фиолетовый), марганца (розовый) и урана или вольфрама (жёлтый). Ну вот теперь вы можете предположить с какими оксидами работал Евгений Кузнецов 🙂.
Надглазурная роспись
Напрашивается мысль - раз есть подглазурная роспись, так должна быть и надглазурная. Вы правы, есть такая 🙂. И главное её отличие заключается в том, что рисунок наносится на уже запечённую глазурь. Затем роспись также обжигается, но при значительно меньшей температуре, что даёт возможность использовать более широкий диапазон красок по сравнению с подглазурной росписью, но не позволяет добиться эффекта единого материала краски и глазури. К типам надглазурной керамики можно отнести и поливную керамику, и майолику (с некоторыми допущениями).
Технику подглазурной росписи придумали китайцы ещё в V–VII веках для создания полихромного фарфора. Наверняка вам известен знаменитый бело-синий китайский фарфор времён Великой Минской Империи (XIV–XVII вв.). То есть времён правления династии Мин 😜. Но в нашем минском панно подглазурная роспись использовалась не просто для конкретного изделия, а для монументального панно высотой примерно 3,5 метра и длиной порядка 25 метров, если учесть обе его стороны. Всего для создания «Садовниц» Евгений Кузнецов изготовил 175 уникальных плиток, не считая доборов для покрытия скруглённых торцов опоры. Понимаете, насколько важно и как непросто было добиться единого колористического решения при обжиге каждой из этих плиток, являющихся частью единой работы?
Также теперь отчасти ясно почему имя Евгения Кузнецова почти неизвестно – специализация художника на подглазурной росписи подразумевала создание декоративных работ преимущественно в закрытых помещениях, к некоторым из которых доступ ограничен. Поэтому его произведения не так на виду, как, например, мозаики Александра Кищенко на фронтонах или стенах минских зданий. Но вот конкретно «Садовницами» может полюбоваться каждый минчанин или гость города – надстройка над входом в гостиницу защищает панно от атмосферных осадков, а с температурой «Садовницы» успешно справляются уже более 40 лет.
Эту чудесную роспись Евгений Кузнецов сделал в 1980 году, когда гостиницу «Планета» ввели в эксплуатацию аккурат к Олимпийским играм и на минском стадионе «Динамо» проходили игры групповой стадии олимпийского футбольного турнира. Опора, на которой размещено керамическое панно, отделяет вход в гостиницу от патио с фонтаном и небольшим садом, где постояльцы гостиницы могли отдыхать на свежем воздухе и любоваться второй частью композиции «Садовниц». Кстати, я обнаружил ещё два варианта названия этой работы – «Сад» и «Дарящие цветы». Так что с одной стороны панно симпатичные белорусские девушки цветами встречали и фиксировали иностранных гостей на входе-выходе гостиницы, а со второй стороны панно другая смена белорусских красавиц как будто ухаживала за садом в патио, приглядывая за отдыхающими 🤗.
Но вернёмся к Сандро Боттичелли и его «Весне». Стилистически «Садовницы» и «Весна» имеют много общего. У них похожая колористика, персонажи в обоих работах располагаются в саду и эти сады формируют сопоставимый фон, фигуры женщин и там и там утончённые, постановки их ног отчасти совпадают, драпировки одежды проработаны схожим образом. Сравните, например, верхнюю половину тела Венеры и девушки с корзиной цветов. Или обратите внимание как розы наслаиваются на платья некоторых садовниц Кузнецова подобно тому, как цветы украшают платье Флоры (Весны) Боттичелли. Посмотрите, в конце концов, на разворот ног Венеры в другом шедевре Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» и сравните с постановкой ног крайней слева девушки на той части панно, которая обращена ко входу в гостиницу. В этом нет плагиата, но есть прекрасная стилизация и у меня нет сомнений, что она сделана сознательно, а Боттичелли – один из любимых художников Евгения Кузнецова. Ничего удивительного, поскольку итальянский ренессанс невероятно повлиял и продолжает влиять на всё мировое искусство, в том числе и на беларусское. Вспомните, например, «Партизанскую Мадонну» Михала Савицкого, один из вариантов которой экспонируется в Минске, в Национальном Художественном Музее, а второй в Третьяковской галерее. Никто даже и не сомневается, что она основана на «Сикстинской Мадонне» Рафаэля. Или посмотрите на архитектуру проспекта Независимости в Минске. Вам кто-то сказал, что это сталинский ампир? Нет, это палладианство чистой воды. Сгоняйте в славный венецианский город Виченца и там вы увидите истоки минской архитектуры 1950-х годов. Этот Минск строили ученики и последователи белоруса, уроженца пинщины, выдающегося архитектора Ивана Жолтовского, стойкого приверженца стиля Андреа Палладио. Так что теперь вы знаете, что в Минске живёт дух итальянского ренессанса 🧐. И неслабый! А Евгению Кузнецову отдельное спасибо за призрак Сандро Боттичелли.
Однако не ренессансом единым. Мне кажется, что автор «Садовниц» кроме Боттичелли очень любил советский фильм «Д’Артаньян и три мушкетёра», вышедший на экраны страны за полгода до Олимпийских игр. Иначе я не могу объяснить почему одна из девушек носит платье а-ля Констанции Бонасье с корсетом на шнурках 🙃
Следует сказать, что «Весна» Боттичелли — это не просто красивая картина, а шедевр, наполненный смыслами и аллегориями. Это касается и истории её создания (как подарка к свадьбе Лоренцо Пополано Медичи), и мифологии, на которой основан её сюжет (превращение нимфы Хлориды в богиню весны Флору), и транслируемых в картине философских идей неоплатонизма, которым не был чужд Боттичелли.
Поэтому я подумал, что «Садовницы» тоже могут быть немного большим, чем просто декоративной стилизацией, и наверняка в них зарыты и другие пасхалки, кроме Констанции Бонасье 🤐. Сначала я обратил внимание на цветы. Широко известно, что в картине Боттичелли более 500 (!!!) видов цветов. Однако Кузнецову так разогнаться не дали бы, поэтому флору «Садовниц» он ограничил двумя видами цветов – розами и одуванчиками. И знаете, тут возможна ещё одна параллель с «Весной», поскольку розы считаются цветком девы Марии и олицетворяют невинность и целомудрие, а одуванчики чего только не олицетворяют, в том числе то же самое, что и розы. Так вот по одной из версий апельсиновый сад в «Весне» соотносят с библейским «закрытым садом» (Hortus conclusus), тоже символом девственности Богоматери и целомудрия как христианской добродетели.
Ещё одна версия говорит, что сад в «Весне» — это Эдем, райский сад, место безграничного и бесконечного счастья. Думаю, что и к «Садовницам» можно отнести такую аллегорию, учитывая идиллический характер росписи и полное отсутствие в её композиции мужчин. Хотя я упорно пытался найти где-нибудь в уголке тень шляпы д’Артаньяна 🤐.
То есть декорации в обоих произведениях схожие, но действия в них разворачиваются разные. Так что же происходит в «Садовницах»?
Силился я рассмотреть хоть какую-то историю в этом панно, но нет, всё по-советски стерильно и максимум что получилось нафантазировать в качестве возможного сюжета – это сбор урожая роз на Минском парниково-тепличном комбинате. Но это не очень правдоподобно, поскольку там не позволили бы садовницам нарушать технику безопасности и рвать колючие розы голыми руками. Говорят, что в 90-е годы автор росписи заезжал в гостиницу «Планета» и рассказывал, что изначально для этого панно планировался типично советский идеологический сюжет, но ему удалось уговорить ЛПР (людей, принимающих решения) сместить акцент на белорусскую народную тематику. Вы видели когда-нибудь белорусских селянок, собирающих цветы в розовом саду? Я думаю, это был сюжет из будущего. Из коммунистической БССР. Вот под этим соусом Евгений Кузнецов и подарил минчанам немножко духа Боттичелли, пропущенного через себя.
Самой волнующей историей «Весны» является предположение что в образе богини Флоры Сандро Боттичелли изобразил Симонетту Веспуччи, даму сердца своего друга Джулиана Медичи, женщину, в которую была влюблена вся Флоренция. Боттичелли преклонялся перед её красотой. И Симонетта и Джулиан рано ушли из жизни и Боттичелли, оставшись без спутников юности, всю жизнь изображал их в качестве всевозможных героев своих картин. Боттичелли даже завещал похоронить себя в той же капелле, где упокоилась Симонетта, что и было исполнено спустя 34 года после её смерти. Об этом вы можете послушать замечательный рассказ Паолы Волковой из серии «Мост над бездной».
Так вот, есть у меня версия, что Евгений Кузнецов, зная историю Флоры-Симонетты и следуя духу Боттичелли, изобразил в образе одной из садовниц даму своего сердца. Логично ведь 😉 И если этой дамой является садовница в платье а-ля Констанции Бонасье, то тогда понятно почему на панно нет д’Артаньяна 😜
Так или иначе, если вы будете гулять возле гостиницы «Планета» или проходить рядом – не поленитесь, подойдите и полюбуйтесь «Садовницами». Это довольно редкий экземпляр монументально-декоративного искусства времён СССР с лиричным, а не революционным сюжетом. И я уверен, что автор вдохновлялся «Весной» Сандро Боттичелли, хотя и не одной ей. «Садовницы», как мне кажется, несут в себе и влияние работ Михаила Савицкого – белорусского классика соцреализма. Хотя для советского монументально-декоративного искусства эта подглазурная роспись — верх утончённости. Вот такой сплав флорентийского ренессанса эпохи кватроченто и белорусского социалистического реализма украшает наш родной город 😉